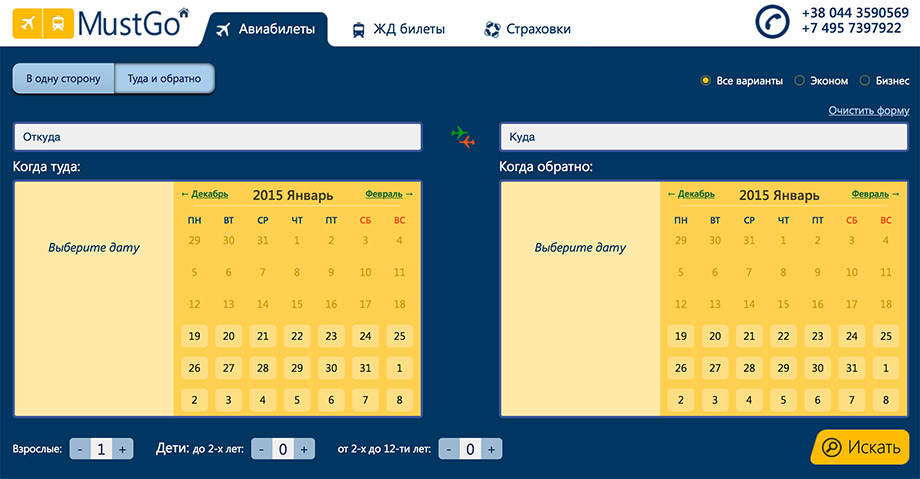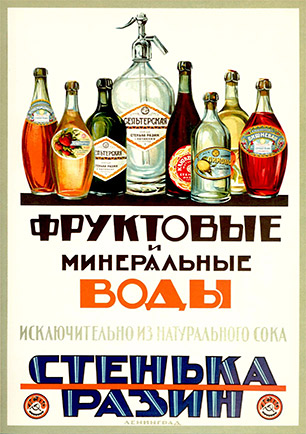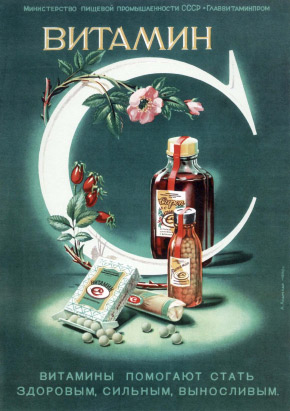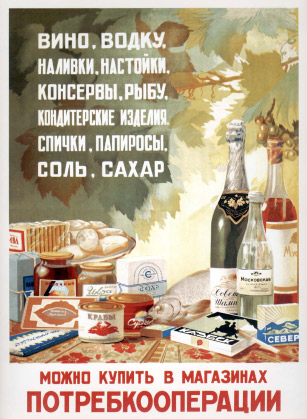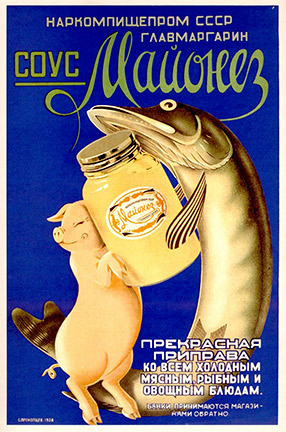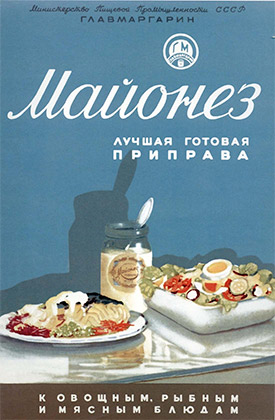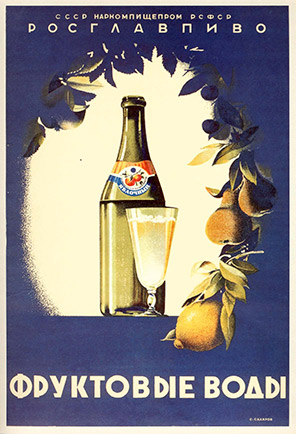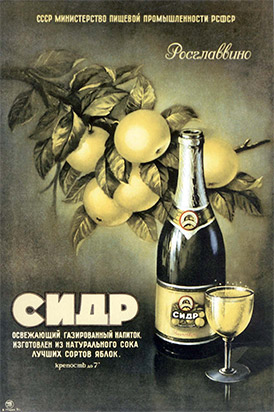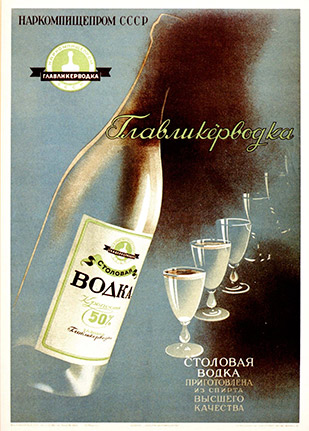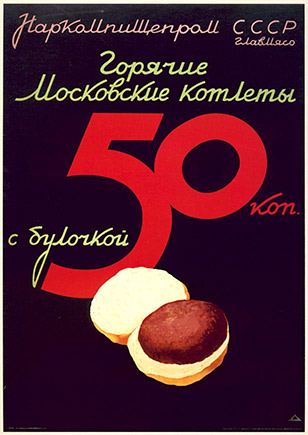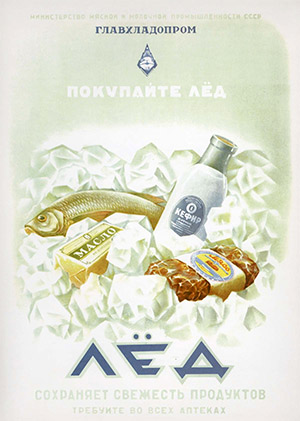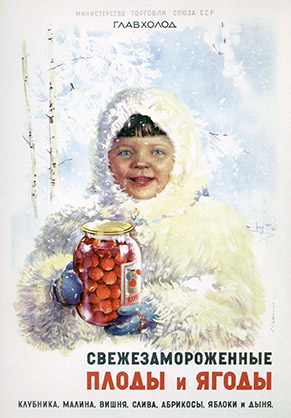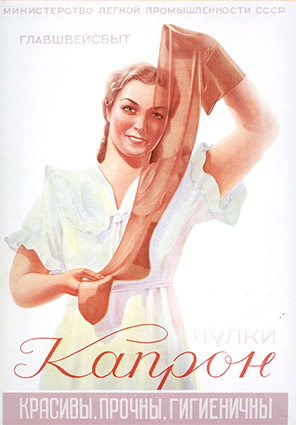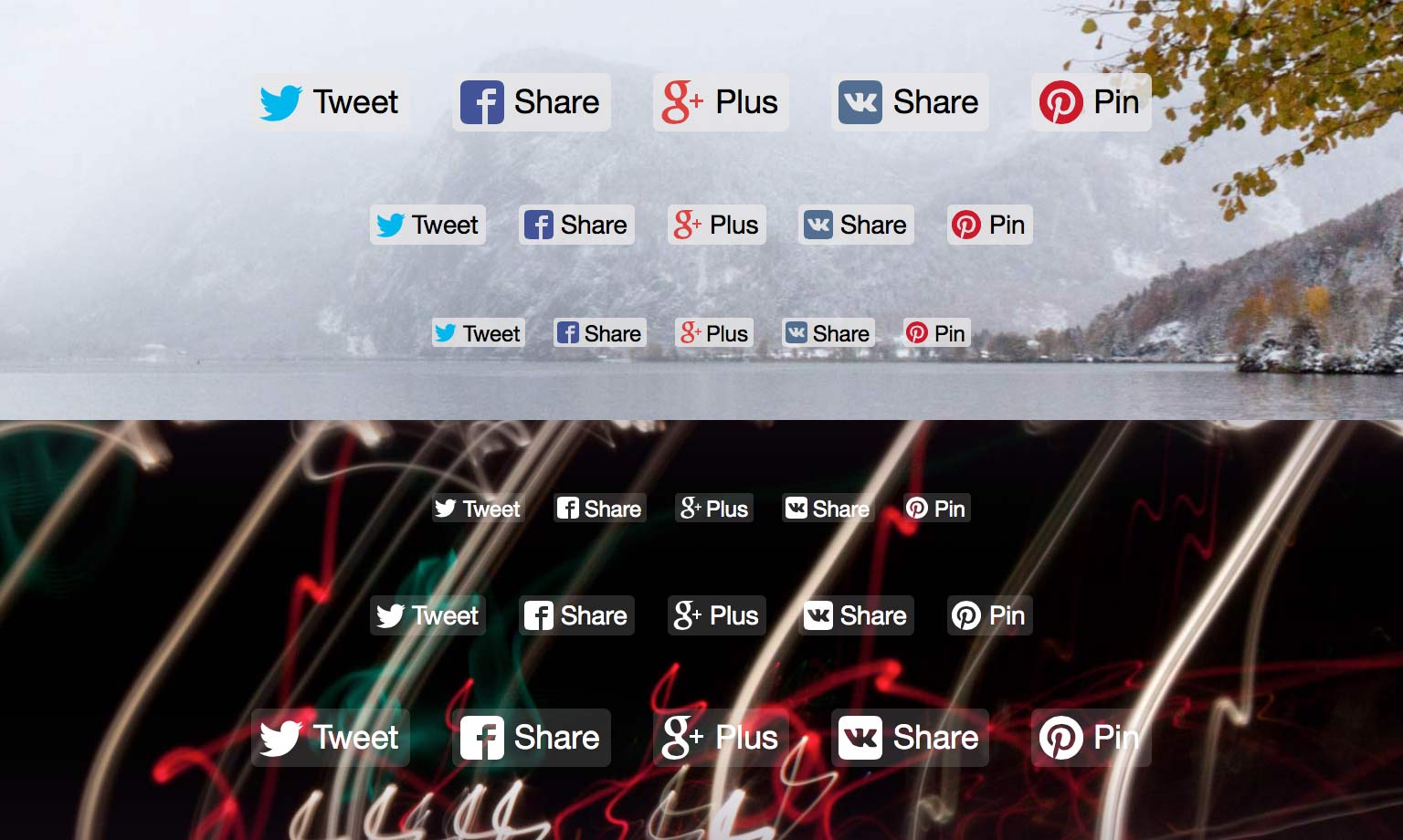О сбитой велокореянке
Трудно пройти мимо истории о сбитой велокореянке.
В ноябре под Мурманском сбили корейскую велосипедистку Юджин Джонг. Она отправилась в свое путешествие 3 года назад в США, проехала Африку и Европу, всего почти 50 стран. В этому году очень хотела побывать на русском Крайнем Севере, посмотреть на северное сияние, писала, что мечтает о Мурманске. И вот под этим самым городом девушку сбивает Газель.
На первом абзаце ещё сочувствуешь ей и переживаешь за то, какая у нас жопа на дорогах. Но по мере чтения уровень сочувствия уменьшается:
Парень, который помогал мне, сказал: «Я буду собирать подписи за запрет на катание на велосипедах зимой и сделаю сайт с большой красной надписью „Не садитесь на велосипед зимой!“». У меня не было слов. Попыталась успокоиться и сказала: «Я попала в аварию не из-за погоды, а из-за того, что водитель был неосторожен. Тебе нужно не за это подписи собирать, а за ужесточение ПДД и сделать сайт с надписью „Водители, будьте осторожны!“».
Давайте разберёмся, чего хочет эта девушка, Юджин. Она поехала кататься на велосипеде там, где отродясь никто на нём не катался. Соответственно, ни один водитель не ожидает велосипедиста на трассе. Она могла бы позаботиться о своей безопасности лучше: фонарь какой-нибудь повесить. Но вместо этого она считает, что все водители в России должны изменить стиль вождения. Она хочет ужесточить ПДД всем нам, чтобы ей можно было продолжать не думать о своих действиях. Не много ли чести?
Конечно, то, что с ней произошло — очень фигово, никому не пожелаешь. Но если она отрицает собственную ответственность за произошедшее, значит она просто неадекватна. Если человек делает глупость, получает от жизни по башке, и вместо изменения собственного поведения винит жизнь, то шансы на повторение неприятностей повышаются.
Представим, что сноубордистка решит съехать с не подготовленной для этого горы и сломает ноги об дерево. А после этого у неё «не будет слов», когда начальник местного лесхоза скажет «Куда ж ты попёрлась, дура». И вдобавок она обвинит его самого в том, что он не спилил деревья на склоне. Что вы скажете о ней?
Например, одну девушку ночью изнасиловали на улице. И вдруг все начали обвинять её: «Почему ты шла по улице ночью? Почему на тебе была мини-юбка? Зачем накрасилась?». Люди обвиняли не насильника, а жертву.
Это вот вообще жесть. Водитель, сбивший Юджин — не насильник. Он не сбивал её специально. Он сам — жертва в этой ситуации. То, что он не попытался помочь, конечно, характеризует его как мудака, но это не имеет отношения к делу. Он ехал как ездил всю жизнь, а тут вдруг такая подстава на дороге, из-за которой он мог бы в тюрьме оказаться. Нифига себе, сравнение с насильником.
Но даже сам пример про насильника иллюстрирует проблему в мышлении. Вот пошла накрашенная девушка в мини-юбке ночью гулять, и её изнасиловали. Виновата ли она? Да какая разница! Понятие «вины» бесполезно при анализе ситуации (любой), если есть задача сделать выводы и минимизировать вероятность её повторения.
Каждый человек совершает выбор, желая оказаться в лучшем положении в будущем. Девушки знают о том, что существуют насильники. Если гулять ночью, вероятность быть изнасилованной повышается (абстрактная «вина» на неё не влияет). Поэтому перед девушкой выбор: гулять по ночам и уверять всех, что она не виновата, или гулять днём. Разумеется, выбор делает она сама исходя из её шкалы ценностей: возможно, ночные прогулки для неё настолько ценны, что они стоят риска изнасилования. Решение она принимает сама и ответственность (а не «вина») за результат — только на ней (насильник здесь вообще никакой роли не играет, а моральная его оценка от этого не зависит: он не становится «меньше виноват» из-за этого, это две раздельные истории). Разумеется, она может при этом подумать и том, как снизить вероятность изнасилования.
Чем лучше понимаешь, что никто во вселенной ничего тебе не должен и вся ответственность за происходящее с тобой только на тебе (даже если «виноват» кто-то другой) — тем лучше живёшь.
А Юджин пускай поправляется.