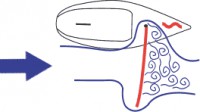Роман Фёдора Достоевского «Братья Карамазовы». Часть 1
Я не читал в жизни почти никакой художественной литературы, но в прошлом году прочёл «Братьев Карамазовых» Достоевского, и мне даже понравилось. Как в любой книге, я подчёркивал то, что хотел сохранить. Пришло время это опубликовать.
В первой части — места, где просто хорошо написано. Курсив мой:
Физиономия его представляла к тому времени что-то резко свидетельствовавшее о характеристике и сущности всей прожитой им жизни.
Во взгляде его случалась странная неподвижность: подобно всем очень рассеянным людям, он глядел на вас иногда в упор и подолгу, а между тем совсем вас не видел.
Он озирался с некоторым любопытством, не лишённым некоторой напущенной на себя развязности.
Было, однако, странно; их по-настоящему должны бы были ждать и, может быть, с некоторым даже почётом: один недавно ещё тысячу рублей пожертвовал, а другой был богатейшим помещиком и образованнейшим, так сказать, человеком, от которого все они тут отчасти зависели по поводу ловель рыбы в реке, вследствие оборота, какой мог принять процесс. И вот, однако ж, никто из официальных лиц их не встречает.
Любопытно, как прошедшее время превратилось в настоящее. Через это отделяется фантазия от реальности.
Точно так же поступил и Фёдор Павлович, на этот раз как обезьяна совершенно передразнив Миусова.
Вся келья была очень необширна и какого-то вялого вида.
Внизу у деревянной галерейки, приделанной к наружной стене ограды, толпились на этот раз всё женщины, баб около двадцати.
Есть у старых лгунов, всю жизнь свою проактёрствовавших, минуты, когда они до того зарисуются, что уже воистину дрожат и плачут от волнения, несмотря на то, что даже в это самое мгновение (или секунду только спустя) могли бы сами шепнуть себе: «Ведь ты лжёшь, старый бесстыдник, ведь ты актёр и теперь, несмотря на весь твой „святой“ гнев и „святую“ минуту гнева».
Старец шагнул по направлению к Дмитрию Фёдоровичу и, дойдя до него вплоть, опустился пред ним на колени. Алёша подумал было, что он упал от бессилия, но это было не то. Став на колени, старец поклонился Дмитрию Фёдоровичу в ноги полным, отчётливым, сознательным поклоном и даже лбом своим коснулся земли. Алёша был так изумлён, что даже не успел поддержать его, когда тот поднимался.
Сердце он имел весьма беспокойное и завистливое. Значительные свои способности он совершенно в себе сознавал, но нервно преувеличивал их в своём самомнении.
В последнем случае он всегда умел себя сдерживать и даже сам себе дивился насчёт этого в иных случаях.
Здесь нотабене. Фёдор Павлович слышал, где в колокола звонят [...] Но, высказав свою глупость, он почувствовал, что сморозил нелепый вздор, и вдруг захотелось ему тотчас же доказать слушателям, а пуще всего себе самому, что сказал он вовсе не вздор. И хотя он отлично знал, что с каждым будущим словом всё больше и нелепее будет прибавлять к сказанному уже вздору ещё такого же, — но уж сдержать себя не мог и полетел как с горы.
Зайдёт она, бывало, в богатую лавку, садится, тут дорогой товар лежит, тут и деньги, хозяева никогда её не остерегаются, знают, что хоть тысячи выложи при ней денег и забудь, она из них не возьмет ни копейки.
Вероятнее всего, что всё произошло хоть и весьма мудрёным, но натуральным образом, и Лизавета, умевшая лазить по плетням в чужие огороды, чтобы в них ночевать, забралась как-нибудь и на забор Фёдора Павловича, а с него, хоть и со вредом себе, соскочила в сад, несмотря на своё положение.
В простенках между окон вставлены были зеркала в вычурных рамах старинной резьбы, тоже белых с золотом.
Фёдор Павлович ложился по ночам очень поздно, часа в три, в четыре утра, а до тех пор всё, бывало, ходит по комнате или сидит в креслах и думает.
А между тем он иногда в доме же, аль хоть на дворе, или на улице, случалось, останавливался, задумывался и стоял так по десятку даже минут.
В этот же раз был в лёгком и приятно раскидывающемся настроении.
Ум его был тоже как бы раздроблен и разбросан, тогда как сам он вместе с тем чувствовал, что боится соединить разбросанное и снять общую идею со всех мучительных противоречий, пережитых им в этот день.
— А грузди? — спросил вдруг отец Ферапонт, произнося букву г придыхательно, почти как хер.
Но обещание слышать последнее слово его на земле и, главное, как бы ему, Алёше, завещанное, потрясло его душу восторгом.
Алёша безо всякой предумышленной хитрости начал прямо с этого делового замечания, а между тем взрослому и нельзя начинать иначе, если надо войти прямо в доверенность ребёнка и особенно целой группы детей. Надо именно начинать серьёзно и деловито и так, чтобы было совсем на равной ноге; Алёша понимал это инстинктом.
Он любит их обоих, но что каждому из них пожелать среди таких страшных противоречий?
— [...] Но вам он нужен, чтобы созерцать беспрерывно ваш подвиг верности и упрекать его в неверности. И всё это от вашей гордости.
А там что будет, то и выйдет.
Наконец он разыскал в Озёрной улице дом мещанки Калмыковой, ветхий домишко, перекосившийся, всего в три окна на улицу, с грязным двором, посреди которого уединенно стояла корова.
Вот недавно о сосне, например: стояла у нас в саду в её первом детстве сосна, может и теперь стоит, так что нечего говорить в прошедшем времени.
Алёша сел на своё вчерашнее место и начал ждать. Он оглядел беседку, она показалась ему почему-то гораздо более ветхою, чем вчера, дрянною такою показалась ему в этот раз.
— Вот что единственно могу сообщить, — как бы надумался вдруг Смердяков.
Зато в остальных комнатах трактира происходила вся обыкновенная трактирная возня, слышались призывные крики, откупоривание пивных бутылок, стук бильярдных шаров, гудел орган.
Раскрыв глаза, к изумлению своему, он вдруг почувствовал в себе прилив какой-то необычайной энергии, быстро вскочил и быстро оделся, затем вытащил свой чемодан и, не медля, поспешно начал его укладывать. Бельё как раз ещё вчера утром получилось всё от прачки.
Затем Фёдор Павлович уже весь день претерпевал лишь несчастие за несчастием: обед сготовила Марфа Игнатьевна, и суп сравнительно с приготовлением Смердякова вышел «словно помои», а курица оказалась до того пересушенною, что и прожевать её не было никакой возможности.
Проживал с супругой своею мелким торгом на рынке с лотка. Комнатка у него бедная, но чистенькая, радостная.
Куколь оставлен был открытым, лик же усопшего закрыли чёрным воздухом.
Но вопрос сей, высказанный кем-то мимоходом и мельком, остался без ответа и почти незамеченным — разве лишь заметили его, да и то про себя, некоторые из присутствующих лишь в том смысле, что ожидание тления и тлетворного духа от тела такого почившего есть сущая нелепость, достойная даже сожаления (если не усмешки) относительно малой веры и легкомыслия изрекшего вопрос сей.
Отдавать внаём свой флигель на дворе она не нуждалась.
Вот были собственные слова Грушеньке старого сластолюбца, предчувствовавшего тогда уже близкую смерть свою и впрямь чрез пять месяцев после совета сего умершего.
Она резво подсела к Алёше на диван, с ним рядом, и глядела на него решительно с восхищением.
[...] страдал от этой мысли до мучительного отвращения.
Когда Митя заговорил о своих контрах с отцом насчёт наследства, то батюшка даже испугался, потому что состоял с Фёдором Павловичем в каких-то зависимых к нему отношениях.
Глубокая тоска облегла, как тяжёлый туман, его душу.
Вступили в переговоры и посадили Митю попутчиком.
Но мысль о ней вонзалась в его душу поминутно как острый нож.
У него была пара хороших дуэльных пистолетов с патронами, и если до сих пор он её не заложил, то потому, что любил эту вещь больше всего, что имел.
Но дело в том, что с Хохлаковой он в последний месяц совсем почти раззнакомился.
Всякой новой мысли своей он отдавался до страсти.
Митя был хотя и восторжен, и раскидчив, но как-то грустен. Точно какая-то непреодолимая и тяжёлая забота стояла за ним.
До Мокрого было двадцать вёрст с небольшим, но тройка Андреева скакала так, что могла поспеть в час с четвертью. Быстрая езда как бы вдруг освежила Митю. Воздух был свежий и холодноватый, на чистом небе сияли крупные звёзды.
Этот Трифон Борисыч был плотный и здоровый мужик, среднего роста, с несколько толстоватым лицом, виду строгого и непримиримого, с мокринскими мужиками особенно, но имевший дар быстро изменять лицо своё на самое подобострастное выражение, когда чуял взять выгоду.
Несколько обрюзглое, почти уже сорокалетнее лицо пана с очень маленьким носиком, под которым виднелись два претоненькие востренькие усика, нафабренные и нахальные, не возбудило в Мите тоже ни малейших пока вопросов.
Хозяин принёс нераспечатанную игру карт.
И важно, пыхтя от негодования и амбиции, прошёл в дверь.
Одним словом, началось нечто беспорядочное и нелепое, но Митя был как бы в своём родном элементе, и чем нелепее всё становилось, тем больше он оживлялся духом.
Сама госпожа Хохлакова хотя ещё не започивала, но была уже в своей спальне. Была она расстроена с самого давешнего посещения Мити и уже предчувствовала, что в ночь ей не миновать обыкновенного в таких случаях с нею мигреня.
Это была маленькая комнатка в одно окно.
Его крепко схватили за руки: он бился, рвался, понадобилось троих или четверых, чтобы удержать его.
Красота:
Ноябрь в начале. У нас стал мороз градусов в одиннадцать, а с ним гололедица. На мёрзлую землю упало в ночь немного сухого снегу, и ветер «сухой и острый» подымает его и метёт по скучным улицам нашего городка и особенно по базарной площади. Утро мутное, но снежок перестал. Недалеко от площади, поблизости от лавки Плотниковых, стоит небольшой, очень чистенький и снаружи и снутри домик вдовы чиновника Красоткиной. Сам губернский секретарь Красоткин помер уже очень давно, тому назад почти четырнадцать лет, но вдова его, тридцатилетняя и до сих пор ещё весьма смазливая собою дамочка, жива и живёт в своём чистеньком домике «своим капиталом».
Тиранил же ужасно, обучая её всяким штукам и наукам, и довёл бедную собаку до того, что та выла без него, когда он отлучался в классы, а когда приходил, визжала от восторга, скакала как полоумная, служила, валилась на землю и притворялась мёртвою и проч., словом, показывала все штуки, которым её обучили, уже не по требованию, а единственно от пылкости своих восторженных чувств и благодарного сердца.
И вот надобно же было так случиться к довершению всех угнетений судьбы, что в эту же самую ночь, с субботы на воскресенье, Катерина, единственная служанка докторши, вдруг и совсем неожиданно для своей барыни объявила ей, что намерена родить к утру ребёночка.
Ему предстояло одно очень важное собственное дело, и на вид какое-то почти даже таинственное, между тем время уходило, а Агафья, на которую можно бы было оставить детей, всё ещё не хотела возвратиться с базара.
Красоткин опять слазил в сумку и вынул из неё маленький пузырёк, в котором действительно было насыпано несколько настоящего пороха.
Так волновался Коля, изо всех сил стараясь принять самый независимый вид.
Ниночка, безногая, тихая и кроткая сестра Илюшечки, тоже не любила, когда отец коверкался (что же до Варвары Николаевны, то она давно уже отправилась в Петербург слушать курсы), зато полоумная маменька очень забавлялась и от всего сердца смеялась, когда её супруг начнёт, бывало, что-нибудь представлять или выделывать какие-нибудь смешные жесты.
Стал для них покупать гостинцев, пряничков, орешков, устраивал чай, намазывал бутерброды. Надо заметить, что во все это время деньги у него не переводились.
[...] но толку от его посещений выходило мало, а пичкал он его лекарствами ужасно.
Илюша же и говорить не мог. Он смотрел на Колю своими большими и как-то ужасно выкатившимися глазами, с раскрытым ртом и побледнев как полотно.
Перезвон как стрела влетел к Илюше. Тот стремительно обнял его голову обеими руками, а Перезвон мигом облизал ему за это щеку.
Штабс-капитан ужасно лисил пред Колей.
Между бровями на лбу появилась небольшая вертикальная морщинка, придававшая милому лицу её вид сосредоточенной в себе задумчивости, почти даже суровой на первый взгляд. Прежней, например, ветрености не осталось и следа.
Нашла она обоих поляков в страшной бедности, почти в нищете, без кушанья, без дров, без папирос, задолжавших хозяйке.
Предстояло ему ещё много дела.
Госпожа Хохлакова уже три недели как прихварывала: у ней отчего-то вспухла нога, и она хоть не лежала в постели, но все равно, днем, в привлекательном, но пристойном дезабилье полулежала у себя в будуаре на кушетке.
Алёша вышел весь в слезах. Такая степень мнительности Мити, такая степень недоверия его даже к нему, к Алёше, — всё это вдруг раскрыло пред Алёшей такую бездну безвыходного горя и отчаяния в душе его несчастного брата, какой он и не подозревал прежде.
[...] сердился, гордо пренебрегал обвинениями, бранился и кипятился.
Иван всегда чувствовал, что мнение Алёши для него высоко, а потому теперь очень недоумевал на него.
В этой избе печь стояла изразцовая и была сильно натоплена.
Алёша вздрогнул, услышав это «ты». Он и подозревать не мог таких отношений.
[...] затем тихо их снял и сам приподнялся на лавке, но как-то совсем не столь почтительно, как-то даже лениво, единственно чтобы соблюсти только лишь самую необходимейшую учтивость, без которой уже нельзя почти обойтись.
Страшный кошмар мыслей и ощущений кипел в его душе.
Стол перенесён был пред диван, так что в комнате стало очень тесно.
Словом, был вид порядочности при весьма слабых карманных средствах.
Физиономия неожиданного гостя была не то чтобы добродушная, а опять-таки складная и готовая, судя по обстоятельствам, на всякое любезное выражение.
[...] спрятал куда-нибудь там в Мокром, на всякий случай, до утра, только чтобы не хранить на себе.
Интересно, «на себе». Сейчас так не говорят, но по-французски, вроде бы, именно так: Je n’ai pas de l’argent sur moi.
Просвещение видел в хорошем платье, в чистых манишках и в вычищенных сапогах.
Он был страшно утомлён и телесно, и духовно.
Но та, как автомат, всё дергалась своею головой и безмолвно, с искривленным от жгучего горя лицом.